Интервью

Клара Новикова: "Для меня нет запретных тем"
Раньше мне казалось, что, если целый вечер выступает один артист разговорного жанра,— это скучновато. Но на концерте Клары Новиковой убедилась, насколько была не права. Как она умеет общаться с залом! Да и зал, казалось, превратился в единое целое, внимал артистке, затаив дыхание. И смеялся, просто до изнеможения.Оказывается...

Наука и спорт
Высокие достижения спортсмена зависят не только от физической формы, но и от того, как он экипирован. Спортсмен может и не знать, сколько всяких ноу-хау вложено в его победу.Присоединяйтесь
ДЕЛАТЬ «ПЫЛКО ДА ОХОТНО»
Повезло в жизни тем, на мой взгляд, людям, которым встретился умный и добрый старший друг. Мне повезло.
Всякое лето папа вез нас на свою родину, в маленькую деревеньку Бугино, что на берегу Северной Двины. Каждый день для нас, ребятишек, оборачивался здесь новой чудной сказкой, в которой героями становились и мы сами.
Странно, но у бабушки с дедушкой не было обременительным пасти корову, выпалывать грядки, собирать огурцы, ворошить сено. Даже скоблить до белизны полы и то становилось радостным. На глазах твоих они становились желтыми, как яичко, а плеснет горячий солнечный луч по половице, и она уж золотой глянется...
Любительница поспать, в деревне вскакивала я ранехонько вместе с бабушкой. Румяная со сна, она торопливо убирала длинную, до пят пшеничную косу (не задумываясь пожертвовала которую в пору нашего девичества внучкам на модные шиньоны) под белоснежную косынку и с этого момента птицей металась от стола к печи и обратно.
Печь весело потрескивала, выскакивали угольки — «подарки»... Первыми попадали в печь огромные чугуны с картошкой и водой, варевом для коровы Завиды и поросенка Борьки. Закипало все мгновенно. Так уж устроен горшок: бока его выпуклы и округлы, они и нагреваются печным «духом» первыми. Дно горшка, стоящее на поду, прогревается слабо, его и делают небольшим, да и ухватом поддевать удобно.
Вслед за горшками шли в печь различного размера крынки, латки, сотейники: с кашей, с яишней со шкварками — на завтрак. Когда уж угли переставали шаять — выделять зеленоватый огонек, печь выметали и ставили «обед»: щи, кашу, обязательно ставец (крынку) для томленого молока, на заедки крынку с ряженкой. Напоследок, набив репами большой горшок, его на лопате, вверх дном сажали в печь на ночь. Поутру начиналось настоящее пиршество. Париницу ели все: наголо или с хлебом, с солью и без соли. Часть ее бабушка резала маленькими кусочками-бо-бичками и сажала в печь на противне, чтоб получить самое любимое детское лакомство — вяленицу, шуточно называвшуюся еще «репой-неукрепой», прообраз нынешней жвачки. Славилась вяленица и из моркови. Обе они были куда как вкусны, а главное, безвредны.
Дни, когда пекли хлебы, и вовсе были на особицу. Духмяный запах свежеиспеченного хлеба просто дурманил и обвораживал. А праздник начинался еще накануне, когда бабушка в плетеном лукошке приносила из амбара муку, дедушка приносил ведро речной прозрачной воды, с печи снималась квашня, в которой от предыдущего еще теста «жила» прикрытая холщевиной закваска...
Ритмичное постукивание мутовки о края квашни, словно мурлыканье кота, дополняло ощущение семейного уюта и благополучия. Всю ночь затем на печи возле трубы «вздыхала» квашня, не раз бабушка заглядывала, «ходит» ли, а утром, совсем спозаранку, замешивала... Но о хлебе должен быть отдельный разговор. Как и о многом ином печиве: шаньгах, яшниках, рыбниках, налитушках, губниках и подорожниках, калачах, гороховиках и колобках тоже — блюдах, исконно русских, необычных и, к сожалению, уходящих в небытие.
Ностальгия по уходящему заставила меня прошлым летом вернуться к бабушкиному хлебу. Деле оказалось не таким уж хлопотным, как я боялась, И теперь на даче вся семья моя всегда с нечерствеющим домашним караваем. Еще горячий, с пылу-жару едим мы его с топленым молоком, с тертой в квасу редькой, смешанной с горячей раздавленной картошкой.
Поражает, сколь рациональным и продуманным было все в бабушкином хозяйстве и деревенском укладе деревенской их жизни. Всякому предмету — свое назначение, каждой вещи — свое место, продукту — свое время. Ничего не портилось, ничего не пропадало.
Самовар в бугинском доме не ленились ставить не по праздникам только, а каждодневно. Легкий зной от горящих углей, таинственное пение, запах и сияющие его бока — все это сдабривалось ароматным пирогом, топленым молоком с коричневой пенкой, дедушкиным удовлетворенным причмокиванием. Чай пили не спеша, с говорей, пока одна за другой не опрокидывались вверх дном чашки. Заваривали не столько покупной чай, сколько зверобой, душицу, лист смородишный, иной раз пили вприкуску с морковной вяленицей, янтарно-желтой ароматной морошкой, поленицей, черникой. Кипел самовар до конца чаепития, достаточно было держать трубу его слегка открытой.
— Пейте, девки, пейте,— веселыми морщинками смеялся дедушка.— Чай пить — не дрова рубить...
И пили, пили... По второй... по пятой... пока одна за другой не переворачивали чашки вверх дном:
— Уф-ф, начаявничались! Радехонька-сытехонька!..
Всегда откровением да и наукой оборачивались походы в лес, не были они простым гулянием. Ведро брали, когда шли за клюквой. Под грибы обязательно плетеную корзину, чтоб «гриб дышал», не червивел, прикрытый от солнца березовыми ветками. В берестяной короб собирались морошка и малина — не мялась, и сок не тек.
Особенно выбиралась для хозяйства береза.
— Береза — дерево ладно: с него и ковш, и хмельное выйдет, зря-то не рубите,— предупреждал дед.
Как-то папа решил научить нас берестяные туеса плести. Долго выбирал он березу, чтоб не старая была и не молодая, не тонкая, и чтоб было ей пятнадцать лет. Подцепил на сучке кору, надрезал и осторожно снял верхний слой. Если не повредить, пояснил, поболеет береза, но останется жить. Выпрямил скручивающиеся куски, сложил ровной стопкой и аккуратно перевязал. А дома убрал в чулан — осень, зиму и весну должна она храниться в сухом прохладном месте.
Но мы были нетерпеливы, попросили прошлогодней, дедовой. Отслоил папа внешнюю шероховатую часть, отполировал оставшийся тонкий слой. Стала береза белая, гладкая, расправил на доске, обрезал в размер, нанес по краю орнамент, а в середине петуха изобразил, точь-в-точь какой по двору бегал. Вместе напилили мы березовых кругляшей для донышек. Большие чурбачки пошли на ведерки под молоко, поменьше — на туески для сметаны, того меньше — для соли, не мокнет она в такой-то солонке. Были в домашнем хозяйстве и буртасы — берестяные туеса с двойной стенкой. Носили в них на сенокос творог, квас. Сохранял он холод и служил вроде термоса. Молоко не кисло в туесах неделями.
Ладили мы и Лубянку — нечто вроде кадушки. Ее весной мастерят. По широкому пеньку в торец другим пеньком ударят — и выйдет середина голенька, останется только донышко вставить — и в кипяток! — потом охватят посудину черемухой или ивой, оно и Останется.
Научил нас папа и ивовые корзины плести, короба, пестери с длинной ручкой для носки сена. Оплетали ивой большие бутылки для молока, что на продажу шли. Плетение корзин напоминало плетение кружев, и нам, девчушкам, нравилось не меньше мальчишек. И в том, и в другом творчестве захватывал и дух состязательности: кто лучше, узористее сплетет. А сколько слез пролито было, когда не получается или проиграешь. Но детские слезы «не долги», говаривала бабушка, просыхали и впрямь скоро, да и новое дело поспевало, чтоб увлечь и забыть поражение.
А сколь увлекателен оказался и процесс заготовки продуктов впрок. В сенях, на сеновале ставились промытые, прокаленные горячими каменьями с можжевельником кадушки, сбитые прочными обручами. Наполнялись они огурцами со смородишным листом, хреном, чесноком, шинкованной капустой с клюквой, моченой брусницей, белыми груздями. Особняком стояли кадочки с царским рыжиком, аристократической ягодой морошкой. Гроздьями висела на чердаке мороженая рябина, чудесно превращавшаяся из горькой в сладкую, когда заносили ее в избу. Словно камушки, стучали ягоды клюквы, ломили зубы.
Своеобразно хранили на севере молоко. Морозили на зиму в деревянных блюдах, затем выколачивали ледяные молочные круги и хранили на морозе. Его вез дедушка дочери в Котлас, и оно побрякивало в котомке вместе с прочей поклажей.
Давно уж нет моих бабушки с дедушкой, нет и папы, но слово помнится дедово:
— Плохо сделать да кое-как и дурак сумеет! А ты старайся поначалу научиться хорошо делать. А как увидишь, сплоховала — спроси, ет спроса лиха нет! — И речь его была плавная, как река северная — без разбегов. И слова он брал те, которые и сам знал сызмалу, и меня видел насквозь.
Утешал, когда постарше уж, восхищалась я ловкостью и веселостью, с какой бабушка все дела ладила:
— И ты можешь так робить. Заруби только: заставлять себя трудиться надо, мыслям дать средоточие, будешь и ты делать пылко да охотно.
Когда ум мой начинает лениться, я иду глядеть на художества народных промыслов. Любуюсь, удивляюсь: как умеют красовито, прочно делать-то!.. Нагляжусь, наберусь веселья — и за работу! Полезно, что ни говори, на чужой успех полюбоваться.
...И вот надарила и я друзьям досок расписных, туесков берестяных — хлеб хранят, жизнь продуктам удлиняют. Нет-нет, да и корзиночку сплету, чтоб грибков пособирали. А нынче, при нехватке молока, пожалуй, и сама замораживать его возьмусь. Шанежками, рипницей да молоком топленым радую домочадцев. И жалею, мало переняла, немногому научилась, осталась, как и предупреждал дедушка, «недоделкой необструганной», «уродилось теля с залысинкой»! Кое-чему, понемножечку — и ничегошеньки основательно. А надо бы «пылко да охотно». И эк, жалко-то, не наверстаешь ведь упущенного...
Новости

Юлия Михалкова покинула «Уральские пельмени» и переехала в Москву

Поклонники спорят: Юлия Проскурякова беременна или нет

Ольга Ушакова: «Зрители нас раскусили»

Максим Виторган: «Я был на свадьбе Ксении Собчак»

Шурыгина разводится с мужем из-за другого мужчины
Сейчас обсуждают

Травой по коже
комментариев: 3

Ароматерапия, или лечение с помощью запахов.
комментариев: 1

Апрель — зимоборье
комментариев: 1

Мигрени
комментариев: 2

Не хочет учиться?
комментариев: 1

Муж беременной жены
комментариев: 2

6 вопросов о коликах у младенцев
комментариев: 1
Самое популярное

Сколько раз "нормально"?
Не ждите самого подходящего времени для секса и не откладывайте его «на потом», если желанный момент так и не наступает. Вы должны понять, что, поступая таким образом, вы разрушаете основу своего брака.

Лучшая подруга
У моей жены есть лучшая подруга. У всех жен есть лучшие подруги. Но у моей жены она особая. По крайней мере, так думаю я.

Хорошо ли быть высоким?
Исследования показали, что высокие мужчины имеют неоспоримые преимущества перед низкорослыми.

Подражание и привлекательность.
Если мы внимательно присмотримся к двум разговаривающим людям, то заметим, что они копируют жесты друг друга. Это копирование происходит бессознательно.

Как размер бюста влияет на поведение мужчин.
Из всех внешних атрибутов, которыми обладает женщина, наибольшее количество мужских взглядов притягивает ее грудь.

Почему мой ребенок грустит?
Дети должны радоваться, смеяться. А ему все не мило. Может быть, он болен?

Если ребенок не успевает в школе.
Школьная неуспеваемость — что это? Лень? Непонимание? Невнимательность? Неподготовленность? Что необходимо предпринять, если ребенок получает плохие отметки?
Гороскоп
- Семья и дети
- Отношения
- Красота и здоровье
- Дом и быт
- Досуг и хобби



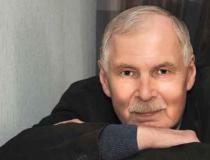

Комментарии